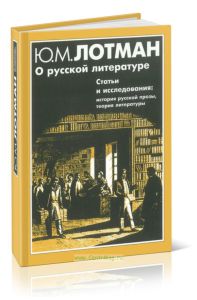- Артикул:00204680
- Автор: Эткинд Е.Г.
- ISBN: 5-210-01583-1
- Обложка: Твердый переплет
- Издательство: Искусство-СПБ (все книги издательства)
- Город: СПб
- Страниц: 702
- Год: 2005
Психопоэтика
Издание дает начало систематическому изучению наследия Е. Г. Эткинда (1918- 1999), выдающегося современного филолога, исследователя русской и зарубежной литературы, переводчика.
В настоящий том включены итоговая работа ""Внутренний человек" и внешняя речь (Очерки психопоэтики русской литературы XVIII-XIX вв.)" и статьи разных лет, собранные по тематическому принципу из разных источников (в том числе зарубежных).
Читатель получит собрание лучших литературоведческих работ Е. Г. Эткинда и одновременно важнейшую из отечественных публикаций по психопоэтике. Книга адресована широкому кругу читателей - от специалистов до школьников.
Введение
Филология, психология и политика Ефима Эткинда
Русская филология XX века богата блестящими именами. Вступив 8 новое столетие с уже иными приоритетами, мы перебираем эти имена с прежним, почти экстатическим восхищением, к которому примешивается меланхолическое удивление. Самые поразительные достижения отечественной гуманитарной науки были связаны с филологией. Почему Россия XX века осознала свое трагическое бытие не в философии, не в политической мысли, не в историографии, социологии или психологии, но именно в филологии?
По крайней мере, два раза за прошедшее столетие, в 1920-х и 1980-х, филология-русистика становилась лидером мировой гуманитарной мысли. Расцвет филологии совпадал, видимо не случайно, с постреволюционным временем.
Потери революционного масштаба должны иметь высокий смысл. Выжившие в катаклизмах истории находят его, но продолжают сомневаться. Они в своих текстах, будь то лирика, история или филология, вспоминают революцию, разбираются в ее причинах и сводят с нею счеты. Возвращаются к ее истокам, обнаруживая их все дальше от ключевого события. А также соотносят любой из взятых ими жанров (карнавальность, волшебная сказка, романтическая поэзия) - с революцией. Энергия события стихает по мере воплощения в текстах. Потомству остаются книги, в которых только внимательный взгляд различит основополагающую травму.
Отрицая свою причастность к политике, иные лидеры отечественной филологии вовлекали читателя в содержательный разговор, у которого были две стороны: герметичная, обращенная в прошлое, и общепонятная, отзывчивая к настоящему. Одна - нарочито деполитизированная, другая - готовая к диалогу с властью. Только те авторы сумели стать лидерами, кто нашел свой способ решить это противоречие. Если бы это кардинальное противоречие не удалось разрешить, филология была бы тем, чем она в худших своих образцах становится сегодня, - технической областью комментирования перепечатываемых текстов, отчужденной от современности, политики и интеллектуальной жизни.
От звездных имен отечественной филологии Ефим Эткинд отличался своей прямой, открытой вовлеченностью в политику. Его политический темперамент очевиден и в его биографии, и в его текстах - советских, эмигрантских и далее - постсоветских. Бесславно забытые чиновники, которые в середине 1970-х годов отлучили Эткинда от советской интеллектуальной жизни и выдавили его в эмиграцию, на деле были правы. Он был врагом и был опасен не как самодеятельный политик, но как профессиональный филолог. Практическая политика Эткинда далеко превосходила то, что он описал в своих "Записках незаговорщика". Она содержится и во множестве переводов, вплоть до самого последнего - "Сказания об истребленном еврейском народе" Ицхака Каценель-сона, и в большинстве научных трудов, вплоть до самых важных - классической "Материи стиха" и последней, недооцененной книги - ""Внутренний человек" и внешняя речь".
Действительно, политический опыт Ефима Эткинда был богаче того, что знали и пережили многие его современники и коллеги, находившиеся по ту или иную сторону железного занавеса, а затем оказавшиеся в постсоветском пространстве. Эткинд помнил энтузиазм обреченных ленинградских студентов 1930-х, романтику военной контрразведки, политические кампании начала 1950-х и десталинизацию, "оттепель", волюнтаризм и застой. Был знаком с инакомыслящей интеллигенцией - А. Солженицыным, И. Бродским, А. Синявским, А. Галичем и еще многими другими. Он узнал на собственном опыте напор ленинградских чиновников от идеологии, чьими усилиями удалось сжить со света двух его братьев, а потом не пустить его самого на похороны матери. Столкнулся с французскими студентами-леваками, победителями 1968 года, которые курили и целовались на его лекциях в Нантерре; соприкоснулся с неправдоподобными известиями о перестройке и ожесточенными дискуссиями о ней в эмиграции и в конце концов пережил триумфальное возвращение в родную страну. Личная политическая история Эткинда была велика потому, что Эткинд искал ее и, более того, создавал.
Практика и теория поэтического перевода, с которых Эткинд начал свой путь, надолго стали его специализацией. Для русского читателя он открывал западноевропейскую поэзию и вместе с тем разрушал провинциальные предрассудки о непереводимости русской поэзии. Его любимые авторы, от Пушкина до Ростана и от Державина до Брехта, были такими же практическими политиками, каким был он сам. То же справедливо сказать и о тех, с кем Эткинд был профессионально и человечески близок, - об А. Синявском, Л. Копелеве. С презрением Эткинд относился к филологам, разделявшим архаические взгляды о политической чистоте литературы и, соответственно, политической невинности филологии. Беды постсоветской филологии: мелкотемье, скуку гладких выхолощенных текстов, профессиональную спесь и неизбежное уныние - Эткинд активно не принимал. Для него главной в списке добродетелей - научных и политических - была дерзость.
Дерзкая интерпретация всякого сочинения есть политическое деяние. Филологическое толкование подчиняется более общим Мотивам и интересам, нежели те, что содержатся внутри самого текста, оно неизбежно навязывает авторскому тексту новые значения, которые в этом тексте не содержались и о которых, возможно, не думал его автор. Перевод всегда есть толкование, но и толкование - всегда перевод. Практическая политика филолога и есть политика интерпретации. Подобно переводчику, филолог занимается переводом текста на другой исторический язык, которым всегда является язык современности. Филологическая интерпретация является творческим актом. Успешно не то толкование, которое следует за оригиналом, но то, что находит компромисс между верностью оригиналу и современным пониманием. Два текста - интерпретация и оригинал - находятся в общении, в диалоге друг с другом. Но ни один перевод и ни одно толкование не являются единственно верными. Новые толкования продуктивны, если выявляют новые, не прочитанные ранее уровни авторского текста. Эти новые значения порождены не столько авторским текстом, сколько новым читательским контекстом, иначе говоря - современностью.
Как и философия или история, филология может быть аполитичной. Но такая наука никому, кроме узкого круга специалистов, не интересна. Множа факты, которые не способны вступать в контакт между собой, не порождают нового знания и - как мы это видим все чаще - ничего не говорят даже самим создателям, такая наука чванится "ученостью" и тоскует от неполноценности.
Политизация филологии не панацея от всех ее бед, только от некоторых. Это один из путей, позволяющих вернуть традиционным занятиям русской словесностью их смысл и энергию. Для современных обществ политика - это то, что связывает людей разных классов, профессий и верований; то, что преодолевает их профессиональную специализацию и интеллектуальное одиночество. Вместе с тем политика - это не только отношение к власти, но и отношения с властью. Некоторые, самые отвратительные разновидности власти основаны на разрушении или, в соответствии с известным рецептом XIX века, на подмораживании политики. Но общество не промерзает до дна. Леденящий груз власти порождает новые, непонятные для нее и потому недоступные ей формы политической энергии. Подо льдом теплится жизнь, которая не просто ждет оттепели, но сама производит тепло - готовит и приближает настоящую весну.
Исследовательскую энергию Эткинда питала миссия филологическая и одновременно политическая, что нашло отражение в его научных работах и в навсегда завоевавших сердца читателей книгах, это "Разговор о стихах", "Стихи и люди" и, наконец, "Барселонская проза".
В своей работе 1996 года под ироническим названием "Слева направо"* Эткинд прослеживал, как изменялось восприятие пушкинских текстов в зависимости от менявшейся политической ситуации: от социологизма двадцатых годов через понимание Пушкина как христианского поэта к метафизическим трактовкам постперестроечного времени. Дело здесь не в приспособленчестве филологов, а в обычной, хотя часто не осознаваемой зависимости способа чтения от насущных интересов читателя. Способы чтения меняются так же быстро, творчески и вместе с тем исторически закономерно, как и способы самого письма. Поэтому так интересно следить за тем, как разные люди в разные времена читают первоначальный текст.
Обращаясь к пушкинистике, Эткинд на примере прочтения "Евгения Онегина" показал, что в оценке произведения на противоположных позициях могут оказаться единомышленники, как это произошло с Г. А. Гуковским и его учеником Г. П. Макогоненко. По мере насыщения историографии произведения толкованиями, сопоставление интерпретаций текста может оказаться более захватывающим, чем споры об исходном тексте. В нашей литературе Эткинд одним из первых увидел накопившиеся здесь возможности. Он заметил, что Гуковский в 1948 году воспринимал Пушкина и Онегина как интеллигентных революционеров, нереализовавшихся декабристов, и этим выражал собственное отношение к сталинскому режиму: "В сущности, советская тайная полиция не ошибалась, видя в Гуковском противника ее тиранического режима и понимая его сочувствие декабризму как проявление современного свободомыслия". Макогоненко же в 1963 году прочитывает "Онегина" на основе другого чувства, близкого к исторической усталости, поэтому у Макотоненко, говорит Эткинд, "Пушкин видит дальше декабристов и сознает обреченность их действий <...> Трактовка Макогоненко - антиреволюционна"**.
Между тем сам Эткинд свободно сочетал или, точнее говоря, спонтанно менял эти две позиции. Так, в анализе "Капитанской дочки" и других "пугачевских" текстов Пушкина он предполагает скрытую симпатию Пушкина к герою-бунтовщику. В другой работе (об Андре Шенье) он утверждает, что этот поэт, казненный революционерами, был "единственным реальным поэтом", с которым "Пушкин мог себя полностью отождествить". В захватывающе дерзкой гипотезе Эткинд предполагает, что известную фразу Пушкина, написанную им рядом с рисунком декабристской виселицы, "И я бы мог, как ш...", которую обычно читают "И я бы мог, как шут", следует читать "И я бы мог, как Шенье". Иначе говоря, рисунок выражает не сочувствие к декабристам, но тревогу Пушкина о том, что в случае победы восстания его могли бы казнить так же, как казнили Шенье. Эта интерпретация идет решительно против всего, что написано на старинную тему "Пушкин и декабристы". Приходится удивляться, что статья Эткинда осталась неоспоренной и незамеченной. По словам' Эткин-да, "казнь могла угрожать Пушкину со всех сторон - справа и слева". Так мог написать только многоопытный филолог постсоветской эпохи.
Интерпретации Эткинда были непривычными для филологов и, с любой точки зрения, необыкновенно смелыми; к тому же в силу своего опыта Эткинд приходил к своим толкованиям раньше других. Пушкинистам известно, что по прочтении книги Алексиса де Токвиля "О демократии в Америке" Пушкин был "разгорячен и напуган". В статье от 1987 года Эткинд сформулировал гипотезу о том, что знаменитое стихотворение "Из Пиндемонти", где сказано: "Не дорого ценю я громкие права..." и "Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспоривать налоги..." - является пушкинской реакцией на чтение демократического Токвиля*. Прошло более пятнадцати лет, а идея Эткинда все еще продолжает вызывать споры. Интертекстуальность в границах только поэзии кажется некоторым специалистам заведомо более приемлемой, чем интеллектуально-политический контекст, который предполагает Эткинд. Некоторые пушкинисты отказываются верить, что зрелый Пушкин был более заинтересован современными ему политическими проблемами, такими, как демократия в Америке, чем романтическими поэтами третьего ряда, которых предпочитают авторы комментариев.
В отличие от многих Эткинд был человеком современного мира, он понимал его и верил в будущее. Французский структурализм породил моду на архаизирующие метафоры, которые сделались тупиком для гуманитарной науки второй половины XX века (и которые, кстати, не были интересны русской формальной школе, предшественнице структурализма). Если в некоторых работах, таких, как "Симметрические композиции у Пушкина"**, Эткинд был структуралистом, его интерес к истории и к индивидуальности, к стихам и людям был неизмеримо сильнее, чем знакомое ему обаяние чистых сущностей. Его человеческая вовлеченность и политический темперамент обеспечили устойчивость к научной моде, отчего его работы читаются сегодня с большим интересом, чем этнографические аналогии и геометрические схемы, которыми увлекались тогда семиотики. Внимательный к истории и доверявший ей, он стал участником ее победы над "примитивными системами", которые навязывались ей слева и справа. Работавший в эпоху, когда структурализм был всеобщим увлечением, Эткинд сумел противопоставить ему собственную теоретическую конструкцию, имевшую иные истоки.
В российских условиях ученый, как правило, становился заметной фигурой благодаря экспансивному развитию некоего нового, особенного метода. Это было в равной степени характерно для марксизма, структурализма и психоанализа и равными темпами устаревало. Большие теории XX века были настолько спорны, а иногда нелепы, что только сосредоточенное "применение власти" заставляло ученых придерживаться собственных теорий. Пытаясь освободиться от идеологического контроля, поздняя советская филология искала чистые, твердые структуры, которые можно было бы рисовать, как физики рисуют кристаллы. Доступные познанию и не нуждающиеся в объяснении, эти структуры считались независимыми от политики, психологии и самой истории. Областью приложения для такого анализа стали классическая фонетика и морфология сказки, а более всего метрические схемы русского стихосложения, из всего мира гуманитарного знания самые близкие к платоновским идеям. Однако ни в художественных текстах, ни в революционных событиях таких регулярностей найти не удавалось. И в поэзии есть много такого, что не укладывается в метрические схемы. Эткинд-переводчик знал это лучше других.
Эткинда-теоретика отличал методологический эклектицизм, своего рода всеядность. Он двигался тем путем, который оказался ближе к нынешнему, посттеоретическому состоянию гуманитарной науки. Но этот путь также требовал дерзости. Анализ структур, внеположных субъекту и увиденных с якобы нейтральной, а на деле высшей позиции, надо было заменить анализом того, что "там, внутри" у самого субъекта. Это автор строит структуры, играет с ними, перебирает их, отвергает или перекраивает по своему усмотрению, Воспроизвести точку зрения автора, оценить его свободу, найти в его текстах его собственную модель субъективности - таковы задачи новой науки, которую Эткинд назвал психопоэтикой. Постструктуралистский поворот позднего Эткинда соотносился и с другими дисциплинами, где примерно в те же последние десятилетия XX века заговорили о действующих лицах, точках зрения и в конечном итоге о субъективности.
Психопоэтика стала первой авторской версией постструктурализма в русской филологии. Психопоэтика - последнее, самое дерзкое и самое масштабное из начинаний Эткинда. Оно остается неусвоенным и неоцененным. Однако оно не было совсем новым. Предшественников психопоэтики надо искать там, где принято находить предшественников структурализма, - в русской формальной школе. Русский структурализм во многом противоположен французскому, который был развитием марксизма, и в частности его метафоры невидимого базиса, определяющего видимую надстройку. В России структурализм или его предтечи опирались на протест против навязываемого им марксизма. На родоначальников русской формальной школы влияла совсем другая традиция, а именно - психология эмоций Уильяма Джемса. Согласно его концепции, сущность эмоции заключается не в вызвавшем ее предмете и не в качестве переживания, а в физической форме ее выражения. По скандальным формулам Джемса, человек не потому плачет, что горюет, но потому горюет, что плачет.
То есть физическая форма эмоции первична в отношении ее субъективной интерпретации. Эти работы были чрезвычайно популярны в России*. В своих первых статьях 1916 года В. Шкловский ссылался на психологию эмоций Джемса как на методологический образец для формальной школы**. Если сущность эмоций в форме их выражения, не в том ли и сущность искусства?
Несмотря на свое происхождение, формальная школа в русской филологии была антипсихологична. С этих позиций описанные Пушкиным в "Евгении Онегине" сны героини рассматривались как средство замедления сюжета, подобное описаниям природы; рассуждения героев Толстого о любви причисляли к тому же порядку явлений, что их рассуждения о сельском хозяйстве. Во всяком случае, никакого специального способа рассуждать об этих рассуждениях формальная школа не выработала. Если литературу рассматривать как знаковую систему и филологию считать специализированной областью лингвистики, что было модно в XX веке, психология оказывается ее антиподом. В качестве примера возьмем классическое для формальной школы определение значения как "инварианта синонимических преобразований". Оно устанавливает существование только знаков, например синонимов, а их отношения определяют значение. Таким образом содержания, независимого от знаков, или того, что называется образами, чувствами, мыслями, - нет. Поэтому значению нельзя дать позитивное, независимое от знаков определение.
В России подобные дискуссии были открыты филологом и лингвистом Александром Потебней, продолжены психологом Львом Выготским и закрыты самим Сталиным, когда он заявил: "Оголенных мыслей, свободных от языкового материала... не существует"***. Психопоэтика возобновила те давние дебаты применительно к новым времени и материалу. Возможно, именно связь лингвистической модели значения с характером политической власти более всего интересовала Эткинда. Проблемную область психопоэтики формировали классические темы: отношения слов и образов в мысли и чувстве; внутренняя и внешняя речь; отражение и способы выражения этих понятий в литературе. В контексте конца XX века это был один из вариантов постструктуралистского поворота, означавшего возвращение к историзации, политизации и психологизации филологии. Параллельные варианты объединения психологии и поэтики представляли, например, работы американского филолога Хэролда Блума и поздние работы Юрия Лотмана. Для Лотмана то был прорыв из замкнутых знаковых систем в более широкую и открытую область, где тексты управляют реальным историческим поведением. Блум представил эволюцию в литературе как последовательность эдиповых конфликтов, при том что каждый новый поэт сражается со своими могущественными предшественниками и, изобретая новое, отчаянно маскирует свою зависимость от старого. Эти концепции различны, но обе искали универсальный механизм, который действует в любой ситуации и, соответственно, всякую ситуацию объясняет. В отличие от них, Эткинд совсем не интересуется общеприменимыми теориями. Он не искал универсальную модель психопоэтики, он описывал идиосинкратические представления, которые вырабатывались самим автором в своих собственных целях, которые и предстояло понять. Психопоэтика, по Эткинду, описательна и не претендует на учение, она представляет собой множество самодельных, самодостаточных теорий, разработанных самими авторами и, разумеется, далеко не всегда сформулированных ими.
В версии Эткинда, психопоэтика есть систематическое изучение очень конкретных соотношений между литературным, высказанным в тексте словом и вне- и дотекстовой реальностью автора: его намерениями, чувствами, образами, действиями. Вновь поставленные вопросы обогащали предмет изучения, но делали малоприменимым весь арсенал формальных методов прочтения текста, который был так важен для работ самого Эткинда в прежние годы. Новая задача означала необратимый разрыв с филологической традицией XX века, в основе которой лежала редукция содержания к форме, значения к знаку, речи к языку. В этом заключался секрет продуктивности Эткинда в его поздние годы: он вновь, или, может быть, как никогда еще, чувствовал себя на неведомой, только что открытой земле.
Впрочем, и книга "Материя стиха", написанная в 1985 году, открывалась с психопоэтической установки. В начале этой огромной работы Эткинд писал, что его часто спрашивают то с иронией, то с удивлением: "Неужели поэт обо всем этом думал? Неужели он так сочинял сознательно, нарочно?" Иными словами, жили ли вновь найденные значения внутри авторского, а не только читательского сознания? Если да, то в какой форме? Эти вопросы, продолжал Эткинд, увлекательны и существенны, но "ответа на них читатель не должен искать в книге. <...> Может быть, изучение материи стиха вызовет к жизни новые, более плодотворные исследования в области психологии творчества". Надежда на других была тщетной, и Эткинду пришлось самому заниматься поставленной тогда проблемой в работах 1990-х годов, которые вошли в сбор ник "Там, внутри" и в монографию ""Внутренний человек" и внешняя речь". Тем же интересом мотивирована и немалая часть его неортодоксальной пушкинистики, собранная в "Божественном глаголе".
Автора занимали неисследованные отношения, которые связывают литературу - "внешнюю речь" с наукой о "внутреннем человеке" и одновременно противопоставляют их. Цитируя психолога Льва Выготского, Эткинд объявляет литературу "наиболее мощным орудием психологии". С другой стороны, во многих рассуждениях Эткинда не вызывает сомнений его намерение дистанцироваться от научной и ненаучной психологии как внелитературной дисциплины. Подход Эткинда к психопоэтике противоположен попыткам психологов. Его не занимала проблема, с которой начинает любой психолог, - вопрос о субстрате внесловесных переживаний, которые обозначаются словами, когда становятся литературой. Из чего "сделан" "внутренний человек", пока он не говорит и не пишет? Состоит ли он из пространственных образов, похожих на живопись; или из модуляций времени, похожих на музыку; или из телесных ощущений, которые не способно имитировать никакое искусство? На деле Эткинд интересуется только одним, но важнейшим аспектом этой безграничной проблемы: соотношением между литературным словом и внесловесной реальностью, определяемой негативно, в ее оппозиции к слову.
Две последние книги Эткинда начинаются одним и тем же противопоставлением, имевшим для него центральное значение: то был - я пользуюсь его терминами - контраст между "спиритуальным романтизмом" и "языковым оптимизмом". Романтическая традиция отрицает соответствие внешней речи "внутреннему человеку" и ищет спасения вне языка - в жесте, музыке или молчании. В этом случае, как писал Эткинд, "единственным языком, выражающим внутреннего человека, оказывается отсутствие языка". Пушкин дал образец противоположной системы, которую Эткинд называл "языковым оптимизмом". Пушкинские грезы целиком, без остатка, облачены в "послушные слова", а они доступны чтению. Отвращение, с которым поэт временами "читал" собственную жизнь, относилось не к процессу чтения, а только к содержанию прочитанного. Вот почему он продолжал писать и читать, не смывая печальных строк. Языковой оптимизм не связан ни с личным, ни с политическим оптимизмом. Как ни грустны стихи Пушкина, они, утверждает Эткинд, полны веры в возможность выражения этой грусти. Но с языковым оптимизмом связано другое переживание: чувство общественной солидарности, доверие к читателю, который заинтересуется, прочтет и поймет именно то, что хотел сказать автор.
Прошло время, и в статье "Слева направо" Эткинд так трактует рецепцию Пушкина в советское время: "от социальности, переходящей в абсурд" до "столь же преувеличенной иррациональности", последним словом которой является, пишет он, безмолвие. Языковой оптимизм сопрягается с рациональностью и активностью в отношениях с властью. Напротив, спиритуальный пессимизм, то есть недоверие к слову и утверждение духовной реальности вне языка, связан с разочарованной самоизоляцией. В психопоэтике Эткинда психологическое измерение соотносится с измерением политическим. Страх перед политической жизнью выражается в ощущении внутренних реальностей, которые невыразимы в речи и потому недоступны социальному контролю. Общество проникает внутрь субъекта по каналам, которые проложены словом. Куда не может пройти слово, не может пройти власть. Освобождение от слова оказывается освобождением от власти. Эта ключевая интуиция связывает поэтическую идею невыразимости с политической идеей независимости. Субъект утверждает свою последнюю свободу, уничтожить которую невозможно именно потому, что она невыразима. В этом устремленность Лермонтова, Тютчева, Мандельштама.
Но ведь профессия поэта состоит в том, чтобы выражать. Столь знакомые нам поэтические констатации невыразимого звучат как признания в профессиональной слабости, как если бы кузнец, к примеру, жаловался бы на крепость металла или политик на непонимание народа. Стратегия романтика состоит именно в том, чтобы как можно выразительнее рассказывать о невыразимом. Последним и самым искренним словом такой речи является молчание. Но в отличие от афонских монахов, профессионалы говорения не могут позволить себе молчать. Эткинд с интересом рассказывал о переживаниях литераторов, которые множили слова для того, чтобы заявить об их избыточности. Ему же была ближе вера позднего Пушкина в поэтическую ясность слова и его политическую эффективность.
Как никто из его современников, Эткинд видел внутреннюю и сущностную, а не внешнюю и случайную, связь между поэтикой и политикой. Интерпретируя жизнь и творчество Николая Тихонова, талантливого выходца из "Серапионовых братьев" и трехкратного лауреата Сталинской премии, Эткинд предложил свой вариант глубинной психологии тоталитаризма: "В какой-то исторический момент ложь, выражавшаяся в молчании, переросла в ложь активную, красноречивую <...> Это характеристика лакейской позиции, которой, в сущности, от Тихонова никто не требовал. <...> Как знать, не способствовало ли [этому] программное уклонение "Серапионовых братьев" от политики?" Программное уклонение от политики перерастает из молчания в ложь и в конечном итоге превращается в лакейскую политику.
В последних работах интерес Эткинда почти полностью переместился с поэзии на прозу. Он определял психопоэтику как метод детального описания психологической динамики внутри прозаической речи, - возможно, как некий эквивалент поэтической метрики, переходящий в свою противоположность в применении к тем особенным проблемам, какие проза представляет исследователю. К примеру, сравнительный анализ потоков сознания супругов Карениных дает возможность Эткинду построить модель "внутреннего мира человека по Толстому", от уровня А (телесные ощущения) до уровня Е (мысль о мыслях и их самооценка). Психопоэтическая теория Толстого сложна, потому что принимает в расчет сразу несколько (по Эткинду, пять) уровней и следит за их многомерными соотношениями: "Наиболее яркой чертой толстовского стиля является соединение разного типа авторского анализа для каждого из слоев". Внутренние монологи Анны, показывает Эткинд, полны ссылок на жизнь тела, которая едва поддается наименованию в тексте; монолог Каренина, наоборот, имеет "гротескную вербальность". Важен не характер какого-либо одного уровня, но их соотношение. В одной сцене Левин сидит в гостях и думает о важной для себя политической проблеме; но думать ему мешает глубокое декольте соседки. Эткинд цитирует Толстого, который воспроизводит все вместе - мысли Левина, увиденную его глазами грудь соседки, замешательство Левина, реакцию соседки, самоосуждение Левина. Интереснее всего здесь вывод Эткинда: "Какой же из всех этих слоев, совмещенных в эпизоде с вырезом, более вербален? Разумеется, С, еще более Д еще более Е, но в сущности - никакой. Истина рождается от сопоставления конкретных деталей, а не от называния чувств и мыслей".
Вербальное и невербальное не конкуренты, но партнеры. Психопоэтика Эткинда отличается от разработанной Зигмундом Фрейдом системы психоанализа. Последний видел отношения сознания и бессознательного по типу трудной, сталкивающейся с сопротивлением колонизации: где было Оно, там должно быть Я. Идея Толстого противоположна: естественные проявления человеческой души одолевают условности, которые накладываются обществом. Самообман возникает не из-за слабости сознания, но из-за его чрезмерного давления, как, например, у Каренина-мужа: где должно быть Оно, там у Каренина одно сверх-Я. Подход Эткинда оставляет возможность перебирать варианты. Вера в эффективность внешней речи - языковой оптимизм - не то же самое, что отрицание "внутреннего человека". По мнению Эткинда, те авторы, кто строил особенно сложные модели внутреннего опыта, - ГончгРров, Толстой, Чехов - разделяли языковой оптимизм Пушкина. Прозаикам более свойствен языковой оптимизм, чем поэтам, у которых все же есть второй, несловесный канал самовыражения - сама музыка стиха. Поэзия, как форма выражения, основана на языковом пессимизме: поэт пишет в рифму или лесенкой именно потому, что чувствует недостаточность естественной речи.
Для понимания творческой биографии Эткинда важен этот поздний поворот от изучения поэзии к изучению прозы, от материи стиха к психопоэтике, от наблюдений за самоограничениями слова к признанию его спасительных возможностей. Однако и более ранним работам была свойственна та же интуиция, переходящая грань между поэтикой и политикой. "Чем может помочь своим современникам поэт?" - спрашивал Эткинд своего читателя в 1975 году, когда был подвергнут остракизму советскими властями. "Он произносит то самое, о чем другие молчат - то ли по робости, то ли по неумению выразить"*. Робость и неумение выразить если и не одно и то же, но ведут к одинаковым последствиям - молчанию, которое открывает дорогу насилию. Зато и дерзость поэта равновелика его "умению выразить". Поэтому, как хорошо знали в России, "вакансия поэта" опасна для угрюмой, молчаливой власти. Опасна и вакансия филолога. Именно поэтому - вследствие языкового оптимизма, свойственного филологии, хоть и не всегда разделяемого филологами, - эта наука сыграла столь завидную роль в советское время.
Рассказывая о языковом оптимизме от Пушкина до Выготского, Эткинд выражал собственное отношение к делу. У человека есть разные уровни свободы и разные способы ее защиты. Отрицание коммуникации, как таковой, есть чрезмерная реакция на социальное и политическое насилие. Конечно же, Пушкину было что скрывать от властей, было что скрывать и Эткипду. Но оба продолжали верить в осмысленность говорения. В отличие от множества их современников, до немоты ушибленных властью, они верили в возможность продолжающегося диалога с обществом и читателем. Только насилие в сущности своей молчаливо; оно не выражается в молчании, но в нем совершается.
Внешняя, рассчитанная на слушателя и, значит, публику речь способна кристаллизовать текучий поток самоощущения в устойчивые, способные к самооживлению структуры, какими являются литературные тексты. Можно подозревать слова и мечтать о молчании; но только способность говорить, обсуждать, предавать гласности дает шанс личной и общей свободы. Политический опыт Ефима Эткинда был столь же важен для его психопоэтики, как его эстетический опыт. Он знал, что писатель не может жертвовать языком во имя свободы, как шахматист не может предложить в жертву короля.
А. Эткинд
Рекомендуем
Артикул 00-01006603