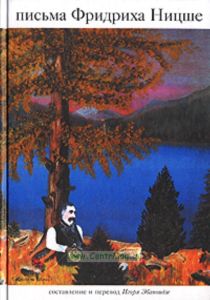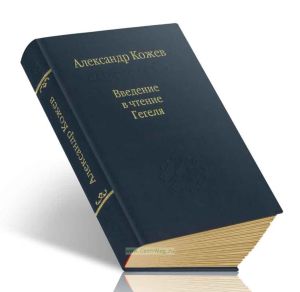- Артикул:00204620
- Автор: Сост. Эбаноидзе И.А.
- ISBN: 978-5-250-06020-2
- Обложка: Твердый переплет
- Издательство: Культурная революция (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 400
- Год: 2007
Письма Фридриха Ницше
В книге представлены 337 писем немецкого мыслителя Фридриха Ницше (1844-1900), охватывающие практически всю его сознательную жизнь, начиная с 14-летнего возраста. В издание включены также фрагменты других писем философа, некоторые письма его корреспондентов, а также переписка его ближайших друзей Генриха Кезелица и Франца Овербека, относящаяся к первому году безумия Ницше.
На русском языке издается впервые.
Введение
Эта книга представляет собой первую в России попытку освоения эпистолярного наследия Фридриха Ницше. Не претендуя на то, чтобы полностью охватить это наследие (в книге представлена примерно девятая часть написанных Ницше писем), издание тем не менее стремится подробно осветить все наиболее значимые и выразительные свидетельства внутренней биографии философа, нашедшие отражение в его переписке. Во многих случаях для пояснения или расширения контекста используются фрагменты других, не вошедших в книгу, писем Ницше, а также ответы его корреспондентов.
Целиком корпус известной на сегодняшний день переписки Ницше, включающий в том числе чуть менее 3 000 писем самого философа, опубликован в многотомном издании Nietzsche Friedrich. Briefwechsel: Kritische Gesamtausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari. Berlin; New York 1974 f. (KGB). В 1922 году был издан неоднократно переиздававшийся с тех пор том избранных писем, подготовленный в Архиве Ницше дальним родственником философа Рихардом Олером. Однако при всех достоинствах первого из этих изданий и при всех недостатках второго ни одно из них не удовлетворяло задачам данной книги - предложить читателю объективное, динамичное, композиционно связанное и обозримое по своему объему повествование.
Так, олеровскую редакцию отличает внутрисемейная тенденциозность, продиктованная в первую очередь интересами возглавлявшей Архив Элизабет Фёрстер-Ницше, сестры философа, а также текстологическая недостоверность. В частности, в издании содержатся сфальсифицированные письма Ницше сестре, скомпилированные на самом деле из писем другим адресатам. Также в издание Рихарда Олера не включен ни один из черновиков писем Ницше, меж тем как они, особенно в сопоставлении с отправленными адресатам чистовиками, подчас вносят чрезвычайно существенные нюансы в его психологический портрет.
Таким образом, отбор писем для данной книги было необходимо провести практически с нуля, чем и занялся составитель, опираясь, в частности, на сами оригиналы писем, хранящиеся в веймарском Архиве Гете и Шиллера (GSA) и по мере необходимости сверяясь с изданием Колли и Монтинари (KGB). По ходу работы родилась идея трехчастной композиции книги с эпиграфами из "Так говорил Заратустра", а также эпилога, составленного из переписки ближайших друзей Ницше - Франца Овербека и Генриха Кезелица - и по времени непосредственно примыкающего к последним письмам философа.
В книге приняты следующие текстологические знаки:
... означает сделанные составителем купюры объемом до одного предложения (у самого Ницше многоточие встречается очень редко; в случаях, когда этот знак поставлен им, мы воспроизводим его без пробела, слитно с предыдущим словом),
(...) купюры объемом более одного предложения,
<> конъектуры переводчика,
[] датировка писем, приведенная в издании KGB,
<+++> несохранившееся окончание или начало письма,
[ ] нечитаемые слова в рукописи.
Предисловие
"Что-то я ношу в себе, чего нельзя почерпнуть из моих книг", - говорит Ницше в письме Лу Саломе (см. письмо № 151 в этом издании). Это не похоже на признание человека литературного, стремящегося выразить себя без остатка в произведениях и сожалеющего, что это еще не вполне удалось. Эти слова - об обладании чем-то, не превращаемом в литературу, о том внутреннем послании, которое несет в себе человек помимо своих произведений. Было бы опрометчиво утверждать, будто в письмах как раз и обнаруживает и раскрывает себя это внутреннее послание и ядро личности мыслителя. Ведь каждое письмо - это в конечном счете тоже маленькое произведение, которое даже может показаться выстроенным своим автором. И лишь когда мы видим весь тот путь, который, начиная от самых первых посланий друзьям, проделало самоосознание Ницше, за письмами начинает проступать движущая сила его судьбы, ее скрытый посыл.
"Это так интересно потому, что речь здесь идет не о книгах, а о жизни" - хоть мы и ведем сейчас речь о книге, эти простодушные слова датского студента, слушавшего в 1888 году лекции Брандеса о Ницше, в точности схватывают суть дела. Письма Ницше, дающие нам слепок его судьбы, - гораздо больше, чем просто литературный или историко-философский памятник; они имеют отношение не только к жизни их автора, но к каждому из нас. Жизнь Ницше как пример (или антипример), как исключительный опыт, как трагедия, как притча (или скрытое послание) имеет отношение к каждому интеллектуально честному человеку, ставя перед ним серьезнейшие вопросы и провоцируя не только на выработку определенного отношения к опыту Ницше, но и на выстраивание определенных взаимоотношений с ним. Что, пожалуй, труднее всего, поскольку опыт Ницше есть в том числе опыт смещения привычных координат, примирения непримиримого и раскалывания целостного. Стоит нам хотя бы на шаг сойти с узкой тропы интеллектуальной честности, как мы судорожно начинаем хвататься за отдельные грани этого опыта, за привычные нам самим координаты, уже не замечая того, что у Ницше они успели полностью поменять свое направление. Именно вследствие такого судорожного хватания за спицы вращающегося колеса ницшевских идей возникают все эти в разной степени увечные и одиозные интерпретации Ницше - от символистской до постмодернистской, от национал-социалистической до леворадикальной. Все эти способы "экспроприации ницшеанства"1 свидетельствуют в сущности лишь о безнадежном непоспевании за мыслью Ницше.
Однако столь же провокативным является и жизненный опыт философа, в котором одиночество провоцирует нас на жалость, болезнь -на сострадание, наконец, безумие - на отстраненную снисходительность. Всё это - чувства, из которых никак не складывается адекватное отношение к Ницше; ведь и одиночеству, и болезни, и даже безумию он своим опытом сообщает новые векторы, придает новое значение. Чтобы приблизиться к этому опыту, нужно попытаться попасть внутрь вращающегося колеса его мысли и его судьбы. И если что-то может дать такую возможность, то это в первую очередь письма. Именно они дают нам три важнейших ключа для понимания внутреннего опыта Фридриха Ницше, и в конечном счете его роли в опыте всемирно-историческом: 1) я нахожусь вне любой устоявшейся системы, 2) я должен стать самим собой, 3) я делаю лишь то, что продиктовано жизненной необходимостью. Эти три формулы соотносятся с тремя человеческими трагедиями, прожитыми в опыте Ницше, - с одиночеством, безумием и болезнью. Эти три вещи - суть прижизненный опыт смерти, и едва ли найдется мыслитель столь амбивалентный в своем жизнеотрицании и жизнеутверждении.
Вначале - об одиночестве. На протяжении всей жизни Ницше постоянно стремится вывести себя за пределы любой социальной, профессиональной, эстетической парадигмы, откреститься от любой, избранной им же самим роли, которую он уже отыграл. Знаменитая фраза: "юмор моего положения в том, что меня путают с бывшим базельским профессором доктором Фридрихом Ницше. Что мне за дело до этого господина!" лишь подытоживает эту череду отрицательных дефиниций. Единственную свою карьерную (если, разумеется, не говорить, пользуясь словами Гёте, о "карьере в невозможном") удачу - чудесным образом обретенную профессуру в Базеле - он с самого же начала видит пагубным соблазном, а спустя несколько лет в письме к Элизабет назовет "главным бедствием своей жизни" (см. № 96). И нельзя даже сказать, что к слову "бедствие" прибегнуто нарочито, для парадокса (хотя, безусловно, тогда, к 1877 году, Ницше уже научился дразнить свою сестру, переворачивая с ног на голову очевидные для той вещи и парируя таким образом ее нервирующую опекунскую наставительность). Посыл Ницше, с годами выражаемый им во все более категоричной форме: "я не тот, за кого вы меня принимаете", - не филолог, не ученый, не литератор, не немец, не антисемит, не юдофил, не христианин, не антихристианин, не идеалист, не вольнодумец, "не пугало", "не моральное чудовище", нет, нет и нет - и адресуется он с равной убежденностью начальству, учителям, читателям, критикам, друзьям, родственникам, "возлюбленной" Лу. Как он напишет в письме последней: "Что мне дух?! Что мне познание?! Не стройте иллюзий на мой счет. Не думаете же Вы, что "вольный дух" - мой идеал? Я ~", Как же характерно, что за этим "я", за которым уже не поставишь очередного "не", следует обрыв, прочерк! Что же стоит за этим прочерком - может быть, незнание, неумение назвать самого себя? Применительно к тому, кто так глубоко, "слишком глубоко" (выражаясь языком обывательских масштабов) заглядывал в человеческую душу, такой ответ будет выглядеть уж очень сомнительно. Скорее это нежелание и даже принципиальная невозможность называть каким-либо именем собственное становление и становление вообще, философом которого он был, "Я" не называемо ни одним утвердительным образом потому, что в каждый момент оно еще не стало, в каждый момент оно есть цель, и называнием этой цели может быть только приближение к ней. Весь перечень многообразных, и в том числе весьма достойных, целей и задач человеческого существования оказывается в данном случае совершенно ни при чем. Называнием цели, как и достижением ее, всякая цель обессмысливается; смысл ей придает лишь путь к ней или перешагивание через нее (как в афоризме Ницше о ступенях, "на которые я вставал, чтобы потом переступить через них. А они воображали, что я хотел усесться отдыхать на этих ступенях"). Вспомните замечательный фрагмент "Мы - воздухоплаватели духа", которым заканчивается "Утренняя заря": "Все эти отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды просто не смогут лететь дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу, - и при том будут еще благодарны за это жалкое пристанище! Но кто посмеет заключить из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный путь, и что они залетели так далеко, как только можно залететь! Все наши великие учителя и предшественники останавливались в конце концов, а поза человека, остановившегося в изнеможении, - не самая благородная и привлекательная; то же случится и со мной, и с тобой! Но что нам до этого? Другие птицы полетят дальше] Наше предчувствие и вера в них влечет нас за ними, возносится над нами и нашим бессилием в высоту, смотрит оттуда вдаль и предвидит стаи других птиц, более могучих, чем мы, которые будут стремиться туда же, куда стремились и мы, и где пока виднеется одно только море, море и море!
Но куда же мы стремимся? Или мы мечтаем перелететь через море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая нам дороже всех наших радостей? Отчего именно в этом направлении - туда, где до сих пор исчезали все светила человечества? Не скажут ли однажды и про нас, что мы тоже, направляясь на запад, надеялись достигнуть Индии, но что судьба обрекла нас на крушение в бесконечности? Или же, братья мои? Или?".
Как же это по-ницшевски: закольцевать свою лестницу становления, усомниться под конец даже в нем, дабы не останавливать становление, не обессмысливать его пафосом утверждения, запретным фаустовским "Остановись, мгновенье!".
Впрочем, для этого фаустовского опыта, проживание которого он для себя избрал, у Ницше была другая формула, взятая у древнегреческого лирика Пиндара: "Стань самим собой". Что больше всего поражает в Ницше, так это безошибочное чутье, с которым он еще в ранней юности начинает распознавать свою неповторимую жизненную задачу, та цепкость, с которой он ни на миг не выпускает ее из виду, и та стойкость, с которой он ей следует. Такое ощущение, что у этого человека особый инстинкт - инстинкт, которого не хватает столь многим: инстинкт становления собой. Это чутье своего пути мыслитель сравнивает с инстинктом горовосходителя, и, надо сказать, чем более отчетливо видится ему свой путь, тем менее охотно он говорит о том, что впереди. Еще в августе 1875 года он пишет Марии Баумгартнер: "Сейчас кое-что в моей жизненной задаче из месяца в месяц становится для меня всё яснее, но у меня еще не хватает мужества высказать это кому бы то ни было. Спокойный, но очень решительный путь от ступени к ступени - вот что позволит мне продвинуться еще довольно далеко. У меня такое чувство, будто я прирожденный горовосходитель". Неудивительно, что весной 1888 года на него такое впечатление произвел Турин, где "посреди города видишь снежные Альпы! Так, будто улицы прямиком уходят в них!" (см. № 280). Этот пейзаж будто дает идеально выправленную и выровненную топографию внутреннего пути Ницше. И если туринская катастрофа с неотвратимостью "входила в его план" (а он не раз замечал по поводутех или иных персонажей и моментов своей биографии, что они "входят в план" его жизни), то не случайно и то, что катастрофа эта оказалась именно туринской, произошедшей в аллегорически ясных декорациях его судьбы. Впрочем, мы неминуемо вернемся к тому, что произошло тогда в Турине; путь от начала до конца будет пройден в книге писем. Здесь же важно лишь обозначить, насколько един и целостен этот путь, перед лицом которого кажется нестерпимо поверхностным общераспространенное до недавних пор суждение о разных периодах творчества Ницше. На самом деле различие между этими "периодами" примерно такое же, как между пролетами лестницы: каждый новый пролет вроде бы и впрямь разворачивает идущего в противоположную сторону, однако по сути направление остается тем же - вверх. Этот рисунок восхождения, этот горный серпантин играет в движении восходящего одну совершенно незаменимую роль - он позволяет экономить силы, и в этом смысле все эти поражавшие окружающих повороты на 180 градусов были для Ницше жизненно необходимы (и лишь там, повторимся, где ему открылась и увлекла за собой перспектива прямого, как стрела, вознесения, там "где улицы будто бы прямиком уходят в горы", жизненные, духовные силы изменили ему).
Здесь мы вплотную подошли к третьей важнейшей формуле внутреннего опыта Ницше: "Я делаю лишь то, что продиктовано жизненной необходимостью". Читатель наверняка обратит внимание на то, как Ницше постоянно, с юношеских лет (см., например, № 19) оценивает свои жизненные обстоятельства, обязанности, интересы, даже произведения искусства и метафизические конструкции сточки зрения того, насколько они полезны или вредны для его творческой продуктивности, эмоционального равновесия, физического самочувствия. Постоянное применение этого критерия к своим обстоятельствам можно сравнить с тем, как восходитель ориентируется на местности, вернее, как, ориентируясь, он выбирает маршрут наибольшей экономии внутренних ресурсов во время подъема. В действительности критерий пользы и вреда Ницше делает универсальным не только в своей жизни, но и в творчестве, и заголовок второго из его "Несвоевременных размышлений" - "о пользе и вреде истории для жизни" - в более или менее переиначенном виде могло бы носить множество афоризмов из его более поздних книг.
Хотя критериями пользы и вреда Ницше начинает оперировать еще до своей болезни, именно болезнь делает их для него всё более актуальными, заставляя разрабатывать их иной раз, как он пишет, "до педантизма", в применении этих критериев можно усмотреть подчас логические противоречия, однако противоречия эти на самом деле снимаются ницшевской техникой перспективизма (или, как ее называют некоторые философы, например Ортега-и-Гассет, "учением о перспективе") - искусством видеть ситуацию, место человека или явления на карте жизни одновременно в разных измерениях и, складывая эти измерения в одну картину, выявлять жизненную необходимость.
Так, например, в 1877 году Ницше буквально в течение месяца дает в письмах две взаимоисключающие оценки своей ситуации и предшествовавшего ей опыта: "Я очень серьезно колеблюсь, не оставить ли мне совсем мою базельскую службу... Эта скороспелая базельская профессура оказывается прямо-таки главным бедствием моей жизни" (см. № 96) и тут же: "До тех пор пока я действительно был ученым, я был здоров, но тут на меня свалились расшатывающая нервы музыка с метафизической философией и заботы о тысяче вещей, до которых мне самому нет никакого дела. Так что я хочу снова быть преподавателем, если я этого не выдержу, то пускай уж упокоюсь в своем ремесле" (см. № 98). Можно, конечно, расценить это как проявление слабости, колебания и сомнения в выборе пути. И лишь при взгляде на весь маршрут судьбы Ницше становится очевидным, что этот момент его биографии - как абсолютно ровная площадка перед новым витком спирали подъема, на которой взаимоуравновешиваются противоположные тенденции и, следовательно, не требуется ни приложения внутренних усилий, ни их экономии. Взаимоуравновесившись, они взаимоуничтожаются, и при новой оглядке вниз с новой крутизны подъема Ницше будет одинаково скептичен по отношению и к своей базельской профессуре, и к "расшатывающей нервы музыке с метафизической философией". Атмосфера новой высоты потребует отрицания и того, и другого.
Жизненная необходимость, диктующая Ницше его стратегию восхождения, - это, как было сказано, в том числе и его борьба с болезнью. Однако по ходу восхождения также меняется и перспектива видения самой болезни: она сама начинает восприниматься как движущая причина восхождения и отказа от прежних ориентиров и ценностей, и в какой-то момент Ницше заговорит не о ее вреде, а о принесенной ею пользе: "В конце концов, болезнь принесла мне величайшую пользу: она высвободила меня, она возвратила мне мужество быть самим собою" (см. № 279). Как пишет немецкий исследователь Вальтер Гебхарт, происходит "психологическая перемена знака в исходно негативных категориях ... Так, болезнь превращается в "причину" здоровья, оценка своих обстоятельств позитивизируется, в конце концов болезнь и здоровье, одиночество и счастье становятся синонимами"1.
Этот последний кульбит ницшевского перспективизма снова подводит нас к туринской катастрофе, которую совершенно невозможно вычленить, сепарировать из внутреннего опыта Ницше, равно как неверным будет считать ее и логическим итогом этого опыта (чего первым делом по получении известия о безумии философа с такой непосредственностью испугался его ученик Кезелиц: "Самым ужасным во всей этой истории будет, если придут филистеры и скажут: "полюбуйтесь-ка, вот вам и результат! И так будет с каждым, кто и т.д.""). Охвативший Ницше на рубеже 1888-1889 годов духовный паралич, за которым закрепилось имя "туринской катастрофы", и впрямь нельзя назвать несчастным случаем, непредсказуемым, форс-мажорным стечением обстоятельств. Скорее это событие на грани поступка, в последние десятилетия XX века нередко интерпретировавшееся как подаваемый нам эзотерический знак и даже поиск иных способов философской коммуникации либо выражение невозможности дальнейшей интеграции в существующую культурную систему. Однако моя задача и здесь - по возможности оставаться в рамках внутреннего опыта Ницше; и если прибегнуть к оптике его писем, то мы увидим, что на этом последнем этапе Ницше "рвет темп" своего "восхождения", то предельно ускоряя, форсируя шаг, пренебрегая собственной техникой "безопасности" и экономии ресурсов, то останавливаясь и "останавливая мгновение" в какой-то блаженной умиротворенности. Но на той высоте, на которую он забрался, такие вольности могут оказаться смертельно опасными.
Письма 1888 года представлены в этой книге особенно подробно, и читатель может шаг за шагом проследить его подъем по этой последней тропе. Уже с начала года очевидно, что Ницше начинает последовательно обрубать свои немногочисленные связи с окружающим миром. Но по сути последнее его открытое признание, последнее объяснение сделанное так, чтобы его поняли, мы встречаем в черновике июльского письма Овербеку. Здесь Ницше говорит, что в его последних книгах "больше страсти, чем во всем, что я вообще до сих пор написал. Страсть оглушает. Она идет мне на пользу, она позволяет немного забыться. Я, с изрядной долей произвола, сочинил для себя таких персонажей, которые своей дерзостью доставляют мне удовольствие, к примеру, "имморалиста" - неслыханного до сих пор типа ... Я и в самом деле очень много смеюсь, производя такое на свет.
Находить развлечения, которые действуют достаточно сильно, становится все трудней. Временами на меня нападает неописуемая тоска".
Но то, что Ницше прячется под масками от жгучего духовного одиночества, что он оглушает себя весельем, сквозь которое все равно проступает неописуемая тоска, далеко не так зловеще, как то, что он больше уже никогда не признается ни в чем подобном. В оставшиеся месяцы мы увидим лишь, как эти причудливые маски намертво срастаются с ним; теперь из-под пера Ницше будут следовать декларации собственного величия, восхитительного самочувствия, поразительного умиротворения, озорного расположения духа, зашифрованные в которых краткие сигналы SOS, увы, останутся для его друзей незамеченными. Едва вернувшись в Турин, он словно попадает в совершенно иное, эйфорически-восхитительное пространство: "Самым опасным был ночной переход через затопленную местность по узенькому мостику из деревянных балок в Комо - при свете факелов! ... Обессиленный затхлым и гнетущим воздухом Ломбардии приехал я в Турин. И тут, что удивительно, все будто бы разом встало на свои места. Волшебная ясность, осенние краски, редкостная удовлетворенность всеми нюансами" (№ 296), и не надо обладать особой фантазией, чтобы усмотреть в этом "ночном переходе при свете факелов" переход символический - в иной мир, в иную реальность сознания или же сжигание за собой всех мостов.
В любом случае Ницше переходит теперь на совершенно иной язык коммуникации. Первое, что бросается в глаза и настораживает нас в осенних письмах из Турина, - это внезапная перемена в оценке его физического самочувствия, вернее, безразличие к нему, присущее полной сил молодости. Куда только подевались его бесконечные жалобы и безнадежные вздохи? Так, походя, он бросает пару раз, что немного болят глаза - и это все. Это не его привычные интонации, это интонации уверенного в себе человека в самом расцвете творческих сил. Он описывает свои прогулки по берегу По в предзакатных лучах, свои театрально-музыкальные впечатления, туринские кофейни, пьемонтскую кухню с каким-то совершенно неожиданным для него гурманством, и невольно представляешь себе этакого жизнелюбивого эстета в пенсне, едва ли не жуира, любителя оперетты и балета из некрасовского стихотворения ("Качнулась ножка влево - мы влево подались"); эдакого французика, одним словом, антинемца, каковым он так хочет себя ощущать. При этом мыслит он по-прежнему блистательно, разве что сменил матовый отблеск на глянцевый, от которого несколько рябит в глазах, и даже нельзя сказать, что он неадекватен в этой роли, - тре-вожаще неестественна сама роль, и особую тревогу вызывают то и дело прорывающиеся сквозь эту буффонаду опереточного "фельетониста" комментарии вроде: "Прошу это письмо также воспринимать трагически" (№ 303) или "Я выкидываю сам с собой такие дурацкие фокусы ... что подчас по полчаса скалюсь... прямо на виду у прохожих... Думаю, в таком состоянии я уже гожусь в "спасители"? Приезжайте" (№ 305; должно быть, именно это письмо имел в виду Кезелиц, раскаиваясь в том, что не приехал в Турин, когда Ницше его звал).
В эти месяцы в Турине Ницше работает над своей автобиографией "Ессе Homo", и этот беспримерный опыт автоапологетического юродства накладывает свой отпечаток и на стиль писем, и на стиль поведения автора. Однако эта книга, по его признанию, не самоцель - она должна выполнить роль предуведомления к первой книге "Переоценки всех ценностей", то есть к "Антихристу" (см. № 301). Вопрос публикации обеих книг вызывает у него внутреннее беспокойство, он колеблется, будто перед совершением преступления, думает отложить печать "Антихриста" года на два, а сперва "запустить" "Ессе homo", затем начинает сомневаться и в том, стоить ли спешить с изданием автобиографии. И вот наконец 16 декабря он пишет Кезелицу: "Временами я не понимаю, к чему мне так уж форсировать трагическую катастрофу моей жизни, которая начнется с "Ессе"" (№ 313). Биографы и исследователи Ницше нередко злоупотребляют этой фразой, обрубая ее концовку и используя вне "издательского" контекста. И всё же так ли уж намертво привязаны они именно к этому контексту? Слова о катастрофе его собственной жизни прозвучали, и их уже не отменить, равно как и не остановить приближения самой катастрофы. Хотя Ницше, безудержно форсировавший перед этим свое последнее восхождение, не просто хочет остановиться, но и в самом деле останавливается в безоблачной эйфории счастья: он перечитывает свои произведения и видит, что "всё удалось, с самого начала - всё образует единство и хочет единства"; он оглядывается по сторонам и замечает "полное восхищение, которое я вызываю, хотя я непритязательнейший человек и мне ничего такого не нужно"; он признается другу, придавая подчеркиванием особую значимость словам "только между нами": "Полный штиль в душе! Десять часов беспробудного сна!", в ответ же на письмо друга, обеспокоенного столь странными признаниями, заверяетего: "Нет, дорогой друг, мое самочувствие по-прежнему превосходно; единственно - я писал письмо при очень плохом освещении - я просто не мог разобрать, что писал ... Знаешь, во внешнем моем состоянии ничто уже не изменится в ближайшие годы, а возможно, и никогда. Какой бы авторитет я ни снискал, я не откажусь ни от своих привычек, ни от своей комнаты за 25 франков. Придется рривыкать к философу такого сорта".
"Философу такого сорта"! О чем он говорит?! О своей комнате за 25 франков в Турине? Или о палате в йенской клинике для душевнобольных? Или же о своем месте в истории мировой мысли? Быть может, как раз это обретенное безмятежное равновесие и есть та вершина, к которой он так неуклонно шел? И путь его становления собой завершается именно здесь, а не в сумасшедшем доме и не в инвалидном кресле на балконе веймарской виллы? А выделение себя из любой устоявшейся системы, о котором мы говорили вначале, - из любой социальной среды, из любого сообщества, за исключением идеального сообщества не могущих совпасть во времени единомышленников, - ведет не к демоническому одиночеству, но к укрупнению единственности до божественных масштабов? "Или же, братья мои? Или?" Вспомним еще раз заключительные слова "Утренней зари", выделив некоторые из них: "Все эти отважные птицы, улетающие ввысь и вдаль, однажды просто не смогут лететь дальше, опустятся где-нибудь на мачту или голую скалу, - и при том будут еще благодарны за это жалкое пристанище! Все наши великие учителя и предшественники останавливались в конце концов, а поза человека, остановившегося в изнеможении - не самая благородная и привлекательная; то же случится и со мной, и с тобой! Но что нам до этого? Кто посмеет заключить из этого, что перед ними не лежит беспредельный, свободный путь, и что они залетели так далеко, как только можно залететь!"
* * *
Эта книга завершается фрагментами переписки Овербека с Кезелицем, относящейся к первому году безумия Ницше. Здесь эти письма выполняют роль эпилога, но на самом деле это лишь начало - начало разговора и спора о Ницше, который едва ли когда-нибудь закончится и едва ли не все полюса которого были намечены в 1889-1890 годах письмами его друзей. Основательный Овербек ратует за крайнюю осмотрительность в отношении публикации наследия и не допускает даже мысли о том, что в безумие Ницше можно вкладывать какой-либо смысл; увлекающийся Кезелиц желает публиковать всё и сразу и не может устоять перед искушением поспекулировать на тему безумия, причем в таком духе, который в конце XX века единодушно поддержат многие корифеи западной философской мысли. На первый взгляд больше доверия заслуживает Овербек, видевший Ницше в Турине и потому имеющий все основания не только говорить, но и молчать об очень многих вещах, что он с честью и делает (уж Кезелиц бы не заставил так тянуть себя за язык). Однако приглядевшись можно заметить странную вещь: у добросовестнейшего и разумнейшего Овербека явно нечиста совесть перед Ницше. Так, упорство, с которым он с самого начала называет данный случай безнадежным, Овербек обосновывает с помощью эпизода, не говорящего ни о чем, кроме его собственного чувства вины: "Судите сами по такой детали: Н. не смог даже воспылать ко мне ненавистью, которую я, чувствуя себя повинным в том, что лишил его свободы, предполагал встретить в нем. Последними его словами, прежде чем закрылась дверь его вагона, были пылкие заверения в дружеских чувствах ко мне. Вот так обстоит теперь с этим героем свободы, что о свободе он даже и не помышляет".
Мы не вправе судить Овербека, который наверняка и вправду видел в Турине нечто, поразившее его до глубины души. Однако совершенно очевидно, что во внутренних мотивах Ницше он разбирается хуже некуда, предполагая встретить в нем мстительную ненависть. Обращенные к нему в одном из последних писем Ницше (№ 321) слова "Честно говоря, я уже и не знаю, как выглядит то, что называют гневом" он либо не помнит, либо попросту не способен воспринять. И Кезелиц с его простодушной первой реакцией ("он имел право на манию величия") и его фантастическим предположением, что Ницше лишь "симулирует безумие", оказывается ближе если не к истине, то уж во всяком случае к живому мифу - к тому маршруту, который прочертил во внутреннем опыте человечества "прирожденный горовосходитель" Фридрих Ницше.
Рекомендуем